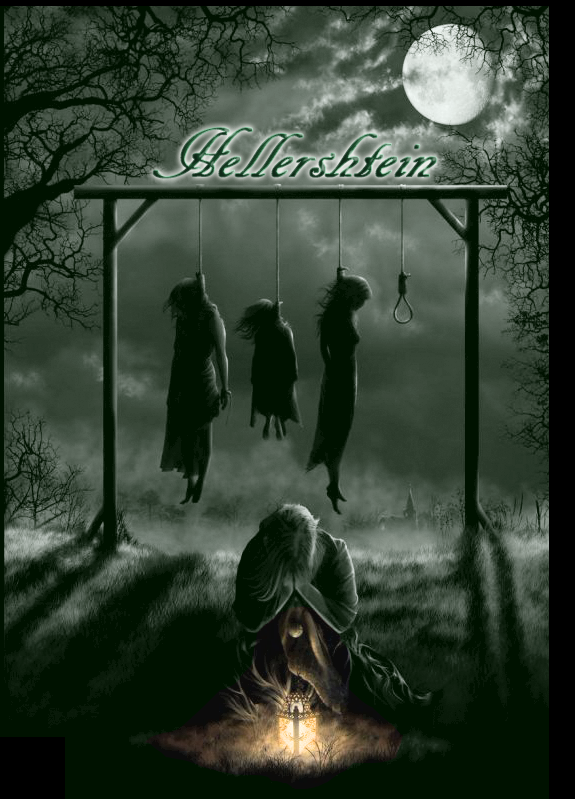Я не могу не перепостить сюда эти рассказы - уж больно они нам подходят...
Морвиль
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться222.01.2013 13:07:33
Так было и так будет
Мэган. Это было ее имя. Злая Мэг. Так звали ее друзья. Она была бы готом, если бы не ненависть к косметике и привычка громко смеяться каркающим прокуренным голосом. Мэг мало кому казалась красивой, она как будто вся состояла из острых углов, локти и колени выпирали из-под одежды, нос выдавался вперед, уголки глаз поднимались вверх, пальцы с длинными ногтями были всегда полусогнуты. Бывшие любовники утверждали, что ее соски выглядят угрожающе острыми. А когда Мэг серьезно задумывалась, все ее лицо оплывало, глаза темнели, и в полумраке девушка казалась древней старухой. Ее волосы от природы были пепельного оттенка, но она красилась в рыжий. Мэг была грубой, работала в
морге, смеялась над анекдотами про мертвых детей и говорила с шотландским акцентом. Она никогда не занималась ни спортом, ни боевыми искусствами, но била тяжело и метко. Несмотря на все это, многие мужчины не могли перед ней устоять. Что-то крылось в ее вишневых глазах, в ее злом голосе. Мэг ни с кем не оставалась надолго. Она постоянно курила на улице, ее штрафовали и даже арестовывали.
Мэг не верила в конец света. Но она чувствовала скорое приближение чего-то важного. Как будто очень многое зависело от нее, только вот она забыла, что надо делать.
Мэг вырезала тыкву. Она делала это очень хорошо, хотя фонарики в результате получались слишком
зловещими. Тыквенные опилки сыпались на юбку цвета лондонских автобусов, заколотую булавками. Мэг было жалко, что она почти не чувствует рыжего упоительного запаха. Когда-то у нее было очень хорошее обоняние. Но постоянное курение его отбило. Потому Мэг и начала курить. Из-за этих людей.
Эти люди были повсюду и мало чем отличались от окружающих. Кроме запаха и тусклых глаз. Вне зависимости от оттенка в этих глазах был какой-то металлический мутный отблеск, как у дохлой рыбы. А запах... Мэг работала с трупами и прекрасно знала, что такое вонь. Запах мертвечины не отвращал ее, иногда даже необъяснимо нравился. Но эти люди пахли неправильно. Знакомые врачи рассказывали Мэг истории, в которые она иногда верила, а иногда нет. О том, что у шизофреников есть свой особый запах, который людям не уловить. О том, что собаки могут почуять, если человек болен. Мэг не была собакой. И Мэг уже почти потеряла обоняние, спасибо никотину. Но этот запах... Как будто серу, мертвую плоть, гной, бензин, прогорклое масло и гнилые водоросли смешали вместе. Мэг выворачивало от него
наизнанку. Больше никто его не чувствовал.
Эти люди были повсюду. Среди клерков, среди панков, среди туристов, среди благообразных старичков и бобби. Они наводняли Лондон. Мэг знала, что она может что-то с этим сделать. Уже очень скоро. Но не могла вспомнить что.
Закончив с тыквой, она поставила ее на окно и вышла на улицу. Покурить. Пусть хоть в тюрьму сажают. Небо отражало свет, погружая город в неприятный ночной полумрак. Мэг не считала себя сторонницей жизни на лоне природы, но ей нравилось, как в безлюдных местах в ненастные ночи наступала темнота. Тогда она закрывала глаза и шла по запаху, с хохотом врезаясь в дверные косяки и придорожные столбы. Мэг не боялась боли, ее худощавые руки были все в мелких шрамах и свежих ссадинах.
Мэг села на порядком мокрый тротуар и прикрыла глаза. Закрыла уши руками, чтобы отрешиться от окружающей реальности. Ритм собственного сердца напомнил ей тиканье часов. С каждым днем Мэг становилась все более беспокойной. Она кричала на друзей, хамила соседям, оставшись одна нервно ходила из стороны в сторону, почти не спала и постоянно курила.
Запах ударил ей в ноздри. Ударил - самое то слово. Он был таким сильным, что Мэг отбросило назад, и она невольно ощупала нос, проверяя, все ли с ним в порядке. В конце улицы что-то происходило.
Странная сцена. Несколько людей нападали на одного. Что в районе Мэг было вполне приемлемо. Но эта компания... Араб-подросток, девушка в дешевом деловом костюме, дядька, похожий на постаревшего и перебесившегося футбольного фаната, старая дама... Они нападали на человека, который был выше каждого из них на голову, если не больше. Огромный с широченными плечами, но не качок. Плохо расчесанные волосы отливающие рыжим (естественным, настоящим, жгучим, не то, что у Мэг). Недлинная, но густая борода. Казалось, он мог переломить пополам любого из нападающих на него, но они все равно подступали. Он хмурил густые брови и озирался по сторонам. То ли хотел сбежать, то ли искал, чем отбиваться. Больше всего это было похоже на фильм про зомби.
- Эй, придурки, - крикнула Мэг и ее голос карканьем разнесся по улице. Девушка втянула голову в плечи, не ожидав от себя такой громкости, - Я сейчас полицию вызову!
«Придурки», от которых так сильно пахло этими людьми, одновременно обернулись к ней и тихо, пятясь назад начали отступать. Прежде, чем исчезнуть за углом, одна из них не моргая уставилась на
великана.
- Еще не время, - сказала она голосом, лишенным эмоций, - Но мы придем.
Мэг подошла к этому странному человеку. От него ничем не пахло. Зато на его красивой, хотя и большой ладони виднелся явный след человеческого укуса. «Интересно, он теперь станет таким, как они?» - подумала Мэг.
- Хочешь, зайдем ко мне, я обработаю эту гадость, - Мэг чувствовала себя неприятно. Ее тянуло к этому парню, и в то же время, он ее раздражал. Вряд ли он бы показался красивым кому-то из подруг Мэг, которые предпочитали либо совсем субтильных юношей, либо совсем брутальных мужиков, либо совсем состоятельных джентльменов. А у этого при его великанском росте на шее болтался дурацкий зеленый шарф, из-под приличной песочной куртки выглядывала футболка «Kiss me, I'm Irish”. Прищуренные глаза казались бесшабашными и мудрыми. И что-то было еще — безумное, яркое, могучее. Мэг даже разозлилась от того, какой маленькой, дерганной и нескладной она должна была казаться рядом с ним.
- Пойдем, если ты серьезно, - голос был не такой низкий, как ожидала девушка, но глубокий.
- Серьезно, - огрызнулась Мэг, пожалев о своих словах и, по-птичьи втянув голову в плечи, пошла вперед.
- Кричишь, как банши, - усмехнулся гость, когда они были уже на кухне, с некоторым опасением садясь на хлипкий стул, - Меня зовут Дуглас.
Мэг пробурчала что-то невнятно агрессивное и пошла искать аптечку. Она терпеть не могла обрабатывать раны, потому что живые, в отличие от трупов, все время дергались, вопили и ерзали. Но Дуглас, как будто,
вообще не чувствовал боли. Или привык. Агрессивным он, впрочем, не выглядел.
- Спасибо, - Дуглас улыбнулся, - Может сходим куда-нибудь?
Мэг села и внимательно посмотрела в глаза гостя. Вот так, просто? Издевается, что ли? Физиономия вроде положительная...
- Давай, - кивнула она, - Сходим.
Дуглас отвел ее в какой-то маленький ресторанчик, чудом работавший так поздно ночью. Долго уговаривал позволить за себя заплатить, и Мэг согласилась. Когда принесли еду, она поняла, что чудовищно голодна. Дуглас тоже ел много и с видимым удовольствием. Простые сытные блюда, пахнущие домом и чем-то настоящим. Отличный эль. Дуглас говорил много и весело, но не казался болтуном. Мэг отвечала скупо, зато очень внимательно изучала нового знакомого. «Свободный, вот что, - подумала она, - Вот что это за
слово, вот что это за чувство такое...». Дуглас был свободен. Он свободно шел и свободно сидел, нисколько не смущаясь собственного роста или силы, свободно ел и смеялся, свободно наслаждался и злился. Ничего нарочитого, ничего нервного. Чем больше Мэг за ним наблюдала, тем больше съеживалась и злилась. Дуглас проводил ее до дома. Она так и не спросила, что это были за люди. Но поклялась с ним больше не встречаться.
Он пришел следующим вечером, как будто знал, что Мэг будет одна. И на следующий, и еще через
один. Дуглас водил ее в кафе, кино и парки, дарил какие-то странные смешные цветы, но не флиртовал и не заговаривал о чувствах, не лез к ней целоваться и не приставал. А уж Мэг тем более не пыталась с ним
заигрывать. И все не собиралась спросить.
Пасмурный вечер Хэллоуина они встретили вместе. У них было много выпивки и яблочный пирог с подгорелым боком. Дуглас рассказывал ей про повадки белых медведей, про новые модели фотоаппаратов, про традиции древней Британии и про множество других занятных вещей. Мэг пила. И когда она почувствовала себя достаточно пьяной наконец спросила:
- Дуглас, кто эти люди?
Он замолк, потемнел, на лбу появились складки, как на дубовой коре.
- Они пришли забрать все, что мы имеем, - произнес Дуглас тихо, скорее для себя, - Уроды. Теперь они выглядят, как нормальные люди, но внутри у них все перекручено и порвано.
- Пришельцы? - пьяным голосом произнесла Мэг, вперив в него взгляд темных глаз.
Дуглас рассмеялся. Но зло.
- Что-то вроде того, - кивнул он и посмотрел ей прямо в глаза, - Знаешь, я ведь король.
Мэг прыснула и хрипло захохотала, а потом вдруг замолкла. Поверить в это было легче, чем могло показаться.. Ее не оставляло ощущение, что где-то она уже видела этого Дугласа. Только тогда он был еще выше и весь в зеленом, борода была длинной, а в волосах венок из дубовых листьев. И тогда он также хмурил брови, только звали его немного иначе. И они были любовниками.
Мэг почувствовала, что у нее кружиться голова.
- Ты король, - смеясь, нараспев произнесла она, - А они твои враги... Я схожу с ума, кажется. Я верю... мне этого хочется, расскажи еще. Сегодня самая та ночь для сказок.
Дуглас покачал головой.
- Они прибывают из этой проклятой Стеклянной башни. Захватчики. Проклятые чудовища. Рядом с ними все становится с ног на голову. Раньше мы всегда побеждали. Даже когда нас лишили власти. Это был наш долг, наша священная битва. Ради нее мы снова и снова проникаем в эти города, в эти жизни. И главное вовремя наиграться и вспомнить себя, вспомнить, что нужно сделать. Вот сейчас снова. Сегодня та самая ночь. Ночь сражения. Все собрались. Но я не готов. Чего-то не случилось.
- Король старых богов Ирландии сидит на моей кухне, - Мэг захихикала, - И готовится сражаться с фоморами в облике клерков и старушек.
- Выходит что так, - Дуглас был очень серьезен.
Запах. Она помнила этот запах. Запах, исходящий от армии уродов, безголовых или безруких, с лицами на груди или без лиц, с огромными когтями или на восьми ногах. Некоторые из них, впрочем, были красивы и умны, они даже заводили детей с теми, другими, но запах... Запах преследовал их неотступно, напоминая о том, как они искажают все, к чему прикасаются. Мэг вспомнила деревья, растущие корнями вверх, рыб, летающих по воздуху, нерушимую башню из стекла, огненные моря, вывернутую наизнанку кожу,
детенышей, пожирающих друг друга в утробе матери....
- Чего-то? - Мэг распахнула окно, - Чего?
Сейчас она верила в весь этот бред. А это значит... Может к декабрю и правда конец света. После которого моря высохнут, с неба хлынет кровавый дождь и камни будут вопить от боли, скатываясь с гор. А перед этим будет битва. Интересно, как выглядят другие? Луг, Бригитта, Огма... Мэг рассмеялась, представив себе старых духов Ирландии в косухах и хиповских платьях, сражающихся с толпой фоморов-зомби на улицах Лондона. И вспомнила запах крови. Запах свежепролитой крови, ее вкус, жар битвы, звон металла,
удары и раны, летящие во все стороны перья. Перья.
Мэг выпрямилась и посмотрела на своего гостя. Свободная. Злая. Седоволосая колдунья, богиня войны, женщина-ворона, пирующая на костях и собирающая души мертвых. Она вспомнила. Вспомнила Дугласа-Дагду в зеленом, мудрого короля детей богини Дану. Они никогда не любили друг друга. Морриган
вообще никого не любила. Но эту ночь, ночь перед битвой, они провели вместе. Через это она подарила ему победу и обещала принести окровавленные сердца врагов. От одного ее крика фоморы бросали оружие и обращались в бегство. Так было и так будет. Не однажды, не дважды, а пока стоит мир.
Кровь бешено пульсировала в висках, напоминая, что время заканчивается.
- Я знаю, что нужно сделать, - кивнула Мэг-Морриган, беря гостя за руку. Она чувствовала ликование, как будто вышла на улицу после долгой болезни. И немного надеялась, что в этот раз они действительно полюбят друг друга. Все-таки мир несколько изменился.
(с) Морвиль
Поделиться322.01.2013 13:09:19
Город осенней воды
Автор: Морвиль
Редактор: Лев Тернер
Краткая аннотация: Тревожен и печален Петербург начала двадцатого века. Среди революционных потрясений, беспокойного рождения идей и постоянной тревоги, никто не обратил внимание на печальную историю человека, заглянувшего за занавес черной воды в сердце этого загадочного города.
В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час ― нам смертная година.
Осип Мандельштам. Петрополь.
Стоял ноябрь 1901 года. Серое небо низко нависло над Петербургом, обволакивая тело холодной влагой, забираясь под одежду, неизбывной тоской вливаясь в душу. Снег еще не выпал. Дмитрий высоко поднял воротник и свернул в сторону Екатерининского канала. Ему нравилась такая погода, когда казалось, что солнце не восходит, когда влажный пронизывающий ветер отсекал всякое желание людей разговаривать на улицах и загонял их, как опавшие листья в дома или кабаки. В такие дни Дмитрий мог сбежать из дома от книг и мыслей и, нарушая предписания врачей, бродить по городу, пока не переставали гнуться пальцы. Иногда прогулки заканчивались лихорадкой, но Дмитрий привык к этой постоянной спутнице, этой мрачной няньке, всегда готовой распахнуть для него свои удушливые объятья. Он больше не боялся эту приживалку его странной болезни, вынудившей молодого человека бросить учебу, отказывать друзьям и запереться в старом пустом доме. Имени ее доктора назвать не могли, а симптомами были только жуткая слабость, головные боли и временами наплывающая лихорадка. Возможно с ней же была связана и эта вечная тревога, страх, укоренившийся в сердце молодого человека так глубоко, что не оставлял его ни на минуту.
Поэтом Дмитрий не был, хотя иногда писал архаичные и тяжеловесные оды в честь значительных событий, например на смерть королевы Виктории. Его успокаивало методичное вписывание слов в строгие формы классицизма. Конечно, их никто не читал. Современных стихов Дмитрий боялся и не любил, но не мог удержаться от них, как пьяница от стакана вина. Стихи, как будто, питали его тревогу, будили ее и вытаскивали на свет. От них Дмитрий и пытался сбежать в ноябрьский холод.
Его сестра, вхожая во всей круги циничная барышня с прокуренным голосом и едкой сигаретой в похожем на маленькое ружейное дуло мундштуке, утверждала, что в тревогах Дмитрия нет ничего особенного, что это «симптом времени». Он никогда не спорил с Марго, боясь до дрожи ее острот и хриплого смеха, но знал, что сестра не права. Дмитрий читал их всех, читал символистов и террористов, Соловьева и Чехова, он читал все и постоянно, он восхищался одними и недолюбливал других, но никто из них не отражал того самого чувства безотчетного врожденного страха. Иногда ему казалось, что эта тайна отделяет его невидимой стеной от всего человечества, и что этот страх является его единственным собеседником, даже другом. Властной рукой ревнивой жены страх забирал Дмитрия из салонов и кабаков, из аудиторий и гостиных в полупустые, холодные и плохо освещенные комнаты его старого дома. Иногда ему снилась темнота, льющаяся с протекающего потолка, как дождь. За ней таились болезнь и тревога в их настоящем ужасном облике. Иногда Дмитрий пытался не смотреть туда, но взгляд против воли обращался к расходящимся потокам, из-за которых вот-вот... Иногда он хотел разглядеть своих мучителей, добраться до них, разводил руками пологи тяжелой бархатной мглы, но каждый раз бывал ею повержен, поглощен и утоплен.
Помимо всего прочего, страх делал молодого человека почти провидцем. Он мог предсказать смерть и болезнь с удивительной точностью, мог почувствовать, что по каналу под мостом сейчас плывет труп, читал на лицах людей совершенные преступления. Дмитрию было бы легче, если бы эти видения оказывались плодом его воспаленного воображения, было бы легче счесть себя безумцем и отдаться на растерзание врачам, чем осознавать, что эти ощущения никогда его не подводят...
Монотонный ветер дул прямо в лицо. Дмитрий чувствовал, что Петербург смотрит на него — мрачный и огромный, как древняя пирамида. Дмитрию всегда казалось, что в отличие от многих других городов, он вовсе не зависит от своих жителей и, если бы все они исчезли, это ничуть не умалило бы его величия. Лиза, его невеста, впечатлительная провинциалка, сказала как-то, что Петербург убивает ее, что она где-то слышала, будто город стоит на костях. Дмитрий только горько усмехался. Он знал, что все города стоят на костях и чувствовал это каждую минуту, бывая там. А еще он тогда понял, что Лиза скоро умрет от чахотки. Петербург действительно ее убил.
Вдруг он увидел его. Страх стоял рядом с молодой девушкой на мосту. Она дрожала на ветру в легком платье, с трудом держа в руках тяжелый камень, привязанный к тонкой ножке в сползшем чулке. Сама она была уже по ту сторону кованной ограды, а туфельки сиротливо стояли по эту. «Зачем снимать туфли, если хочешь бросится в реку?» - пронеслась мысль в голове Дмитрия. Рядом с ней стоял мужчина в черном пальто, вида утонченного и болезненного. Заботливо, как влюбленный на свидании, он поддерживал несчастную самоубийцу под локоток и держал над ее скорбно склоненной головкой огромный черный зонт, скрывая ее от света.
Дмитрий остановился как вкопанный. Никогда еще он не видел своего страха, только чувствовал его. Во сне воображение рисовало за пологом темноты ужасных чудовищ, раздувшихся покойников, средневековых василисков. Но сейчас перед ним стоял обычный человек, моложавый, хотя и старомодно одетый. В нем не было ничего демонического, напротив, это был один из самых приятных людей, которых доводилось встречать Дмитрию, обладающий какой-то особой красотой надломленного совершенства, внешностью чахоточного серафима. «Ô toi, le plus savant et le plus beau des Anges[1]»... Строки Бодлера, прочитанные очень давно, всплыли и снова канули в Лету памяти сметенного молодого человека. В его голове в этот момент постоянно сменялись тысячи и тысячи мыслей, появлялись тысячи образов. Время растягивалось, ветер замер. Дмитрий видел свой вечный страх, своего давнего мучителя нашептывающим что-то на ухо девушке так ласково, так долго. Руки и ноги отказывались двигаться, в глазах поплыли черные точки.
И девушка прыгнула, с гулким всплеском погрузившись в черную осеннюю воду. А на губах ее спутника расцвела улыбка, такая жестокая и такая... сытая, что немедленно развеяла всякое его сходство с человеком. Он с треском сложил зонт, обернулся и взглянул Дмитрию в глаза. Молодой человек отшатнулся, стараясь закрыть лицо руками. Он увидел две бездны голода и сырости, отчаянья и высокомерия, камня и беспросветной воды. Вода все прибывала и прибывала, а в ней были лица и Лиза, кашляющая болотной жижей... А потом лихорадка заботливо лишила его способности запоминать.
Тогда Дмитрий понял. У страха, наверное, было другое имя в дикие старые времена, когда колдуньи проливали для него кровь изогнутыми рыбными ножами. Но тогда это был просто болотный призрак, тень, дрожащая на холодном ветру. Наверное, когда-то что-то подобное было в каждом лесу и в каждой пещере. Но люди усыновили его. Дали ему новое имя и европейское образование, научили разным языкам, короновали его и посвятили ему лучшее, что у них было. Строя дворцы и дома для себя, они строили их для него. Все города стоят на костях, но этот постоянно жаждал новых смертей. Петербург. Дмитрий узнал имя своего врага, увидел его лицо.
Он все понял. И сошел с ума.
С того дня Дмитрий объявил городу войну. А тот только смеялся над ним, появляясь на набережных или в шумных компаниях. Никто не замечал странного незнакомца, когда он провожал в последний путь самоубийц, когда укутывал шалью плечи больных сифилисом шлюх, когда целовал в лоб замерзающих бездомных детей. Никто не видел, как он читает у постели умирающего от чахотки или закрывает глаза человеку, упавшему со взбесившейся лошади. Зато его часто замечали в театрах, на поэтических вечерах и в мастерских художников. А потом забывали.
Дмитрий почти не спал, потому что был уверен, что сны принадлежат его врагу. Он боялся подходить к рекам и мостам, потому что рядом с ними видел утопленников — в черных одеждах, отливающих сталью, в вуалях, скрывающих мертвые лица, эти декадентские русалки смеялись, когда он проходил мимо. Поначалу многим нравилось слушать, как Дмитрий гневно рассказывает о городе-кровопийце, который спит при ярком солнечном свете в гранитной гробнице набережных, выставляя на показ изящество и остроумие, о городе, который высасывает жизнь даже из зданий, даже из ярких цветов, проникая в них серой мглой низкого ноябрьского неба, делая тревожными и болезненными. Но вскоре всех стали пугать налитые кровью глаза Дмитрия, его постоянные призывы взорвать, разрушить этого ужасного монстра. В конце концов, он сдружился с бомбистами, надеясь, что при покушениях на людей пострадают здания и мосты, но и они скоро отделались от него. Иногда соседи слышали, как Дмитрий палит в воздух из пистолета и кричит на кого-то.
Петербург относился к этому снисходительно. Он всегда был рядом. Его голос казался шелковым шепотом воды. Город терпеливо просил Дмитрия сдаться. Он обещал вечный покой в холодном дожде, в заунывном ветре. Говорил, что Дмитрию будет хорошо, что он будет защищен там, в глубине. И так нежно улыбался, что молодой человек почти ему верил. Но это еще больше пугало, и Дмитрий снова мечтал сравнять проклятый город с землей, низвергнуть на морское дно.
В какой-то момент сестра приехала к нему, окутанная запахом табака, отобрала пистолет и кухонные ножи, наняла сторожа и сиделку. В скором времени они подтвердили — Дмитрий не в себе, он говорит сам с собой, кидает проклятья в воздух и заявляет, что взорвет Петербург. Зато, как прагматично решила Марго, приступы безумия явно отпугивали лихорадку.
Когда началась Русско-японская война, Дмитрий стал говорить, что это происки Петербурга, эти высказывания, с легкой руки его сестры, стали популярны в определенных кругах, а некоторые личности утверждали, что безумец пророчествует, но никто так и не понял, что он имел ввиду. Иногда Дмитрию удавалось вырваться на улицу, где он долго ходил, выискивая самоубийц, уговаривая их, иногда силой вытаскивая из воды. Сначала им двигали благородные побуждения, но вскоре Дмитрию стало наплевать на людей, он только хотел обескровить, уморить голодом своего врага. Петербург позволял ему спасать своих жертв, он не сделал ничего, чтобы повредить молодому человеку, только снисходительно качал головой.
После «Кровавого воскресенья» Дмитрий прибывал в иступленном состоянии. Он сбежал из-под надзора и, как говорят, ворвался в Михайловский театр и начал прилюдно обвинять в произошедшем какого-то весьма любезного венецианца. Безумец призывал схватить кровопийцу и сжечь его здесь же. Дмитрия скрутили, вывели и отвезли домой, пригрозив отправить в сумасшедший дом.
После этого, он начал открывать окна и кричать на всю улицу, что Петербург хочет крови, что это из его чрева выходят все беды. Люди начали собираться под окном регулярно, называя Дмитрия невольным голосом рабочего класса и разумным безумцем, к концу недели толпа зрителей насчитывала уже пару дюжин. Никто из них не понимал, что хочет сказать бедный юноша. В конце концов городовой пожаловался Марго, и она велела заколотить окна намертво.
Зимой при натопленной печке в доме все равно было холодно, но теперь от духоты у Дмитрия начались галлюцинации. К нему приходила Лиза, красивая и мертвая, хватала его холодными, как лед руками и пыталась поцеловать. «Я тебе не нужна была, - печально говорила покойница, - Никому я здесь была не нужна, а он позаботился обо мне. Пойдем, я тоже боялась, ай, как боялась! А теперь мне так славно...» И она заходилась жутким кашлем, прижимая к губам быстро темнеющий платок. Эти видения совсем обессилили Дмитрия, он почти перестал вставать с кровати, усох и плакал, все твердя, что должен был спасти Лизу, не отдавать ее...
В мае кто-то выбил стекла в окне. Свежий воздух вдохнул новую силу в ненависть Дмитрия. Он снова сбежал, поселился в каком-то подвале в Ковенском переулке, отдав хозяину дома за это свои часы. Дмитрий собрал вокруг себя группку людей, веривших, что это юродивый-пророк, способный помочь им бороться с несправедливостью. Белокурая девушка Настасья стала его правой рукой, его летописцем и его любовницей. Она боготворила его и была чудо как хороша. Поддержка возродила в сердце Дмитрия безумную надежду на победу. Несколько раз он говорил своим последователям вооружится и идти сражаться с врагом. Но когда третий раз он указал им на пустое место рядом с трупом бездомного, все покинули его, кроме Настасьи. Девушка посчитала, что врагом он называет саму смерть и была недалека от правды. Это вскружило ей голову, и они остались вдвоем в подвале, где составляли сумасшедшие планы борьбы с Петербургом или со Смертью, пока Марго не отыскала влюбленных, не отхлестала Настасью атласной перчаткой по щекам и не заперла брата в доме. Новый доктор окуривал его опиумом по какой-то своей методике, отчего Дмитрий опять впал в оцепенение и начал страдать от галлюцинаций. К нему приходила Лиза, говорящая цитатами из Бодлера, а потом и Настасья с пулевой раной в груди, откуда постоянно текла вода. Они кружили вокруг его постели и звали, звали...
Спустя несколько лет Дмитрий понял, что ему не победить. Он стал уговаривать сестру увезти его из города. Лежачий больной с помутившимся рассудком, он разговаривал сломленным старческим голосом, почти не открывая глаз. Марго понравилась идея отправить брата в деревню, но череда необъяснимых случайностей постоянно мешала этому плану осуществиться. Дмитрий плакал, угрожал, умолял любой ценой увести его из Петербурга, но добился только того, что сестра решила, не потакать этой новой форме безумия.
Когда его враг сменил имя, в его облике стало больше отчаянья. А еще Дмитрию казалось, что он стал выше, шире в плечах и, должно быть, сильнее. Но из голоса Петрограда-Петербурга так и не исчез легкий иностранный акцент. По прежнему красивое лицо иногда искажалось яростью. Город продолжал приходить к его постели. Спрашивал, стоит ли держаться за жизнь безумца, за жизнь инвалида. Дмитрий пытался отогнать его со слезами на глазах, смиренно просил дать ему еще пожить. В редкие минуты просветления он задумывался, зачем этому чудовищу его согласие.
Однажды ему пришло в голову пригласить священника. Дмитрий понимал, что тот вряд ли примет его слова всерьез, но надеялся, что спасительное прикосновение к вере излечит его истерзанную душу. Священник пришел и весь день проговорил с больным о социальных преобразованиях и марксизме. После его ухода Дмитрий заплакал.
Когда начались столкновения на улицах в феврале, Марго всеми силами старалась скрыть это от брата. Но он знал, чувствовал всем сердцем, что происходит. Несчастный попытался бежать и даже смог выбраться из дома, но ноги не слушались его, и, не пройдя нескольких метров, Дмитрий упал в грязный снег. Когда его нашли и принесли в дом, доктор решил, что лихорадка прикончит больного за несколько дней. Но боязнь попасть в лапы города, в его подводный Тартар так пугала Дмитрия, что смогла удержать жизнь в теле.
Но он уже не приходил в ясное состояние сознания до самого конца. Никто больше не рассказывал ему, что происходит на улицах. Однажды, вместе с другими тенями пришла в его комнату Марго с перерезанным горлом. Она была вся в воде и больше не курила, только сжимала в посиневших пальцах мундштук. Вскоре после этого сторож с нянькой зашли в комнату Дмитрия и стали сбрасывать в мешок все ценные вещи. Сторож легко вытряхнул истощенное тело больного из кровати. Дмитрий наблюдал со всем этим бесстрастно и едва понимая, что происходит, обретя ясность разума только в тот момент, когда услышал хруст собственных костей. «Кровопийца» - прошептал Дмитрий, задыхаясь от невыносимой боли и страха, и сторож вздрогнул. Но слова эти предназначались не ему.
В пустой комнате, бессильный, изнемогающий от боли, Дмитрий лежал на полу. Петроград поставил рядом оплывающую свечу и прикурил от нее самокрутку, неловко, как будто в первый раз. «Бедный Дмитрий», - красивые губы изогнулись в снисходительной и одновременно презрительной улыбке подающего милостыню. Обессиленный больной старался не смотреть на своего мучителя. «До чего ты себя довел?» - пальцы Петрограда были холодными, как лед, и, как лед, снимали боль. «Я?» - подумал Дмитрий, сначала не помня себя от ярости, а потом... «Ну конечно я... Почему я решил, что это и есть мой страх, моя болезнь... Он ведь сразу предложил мне убежище от них, предложил покой. И Лиза, Лиза ведь сказала, что уже не боится», - Дмитрий по-новому взглянул в лицо города, - «Там будет очень глубоко и холодно, там они меня не найдут... Ему должно быть одиноко, кроме меня его никто не узнал... Вот он и ходил за мной, старался помочь... Помочь...». На Дмитрия нахлынула волна признательности к этому мрачному герою, который, как сейчас казалось умирающему, так заботиться о людях, так стремиться уберечь их от агонии человеческой жизни. Петроград мягко кивал, как будто читал его мысли. «Нужно только, чтобы ты согласился отдать мне свою жизнь и свою душу», - улыбнулся город, - «будет не вежливо забрать их без твоего согласия». Услышав слово «душа», Дмитрий нахмурился, как будто почти вспомнил о чем-то очень важном. Но мысль ускользнула от него. «Полюби эту вечность болот, никогда не иссякнет их мощь...» - вспомнил Дмитрий в последние мгновения своей жизни, - «Это Вечность сама снизошла и навеки замкнула уста[2]». Разумеется, он согласился.
Петроград изящным движением опрокинул свечу. На его губах сияла жестокая упоенная улыбка. Противостояние со своей жертвой доставляло ему радость, хотя город и не знал, почему покойный узнал о нем так много. Юродивый, должно быть, так случается иногда. Ему уже не хватало Дмитрия, живого Дмитрия, знающего правду и желающего бороться, а не мертвую тень в холодной воде Невы. Но Петроград-Петербург никогда никого не жалел, никогда ни о ком не заботился, что бы не думали его очарованные жертвы. Он принюхался к воздуху, предвкушая новые смерти. Множество новых смертей.
1Шарль Бодлер, «Les Litanies de Satan» из сборника «Les Fleurs du mal». «О ты, искуснейший и прекраснейший из Ангелов»
2Первая и последняя строки из стихотворения Александра Блока «Полюби эту вечность болот» из цикла «Пузыри земли».